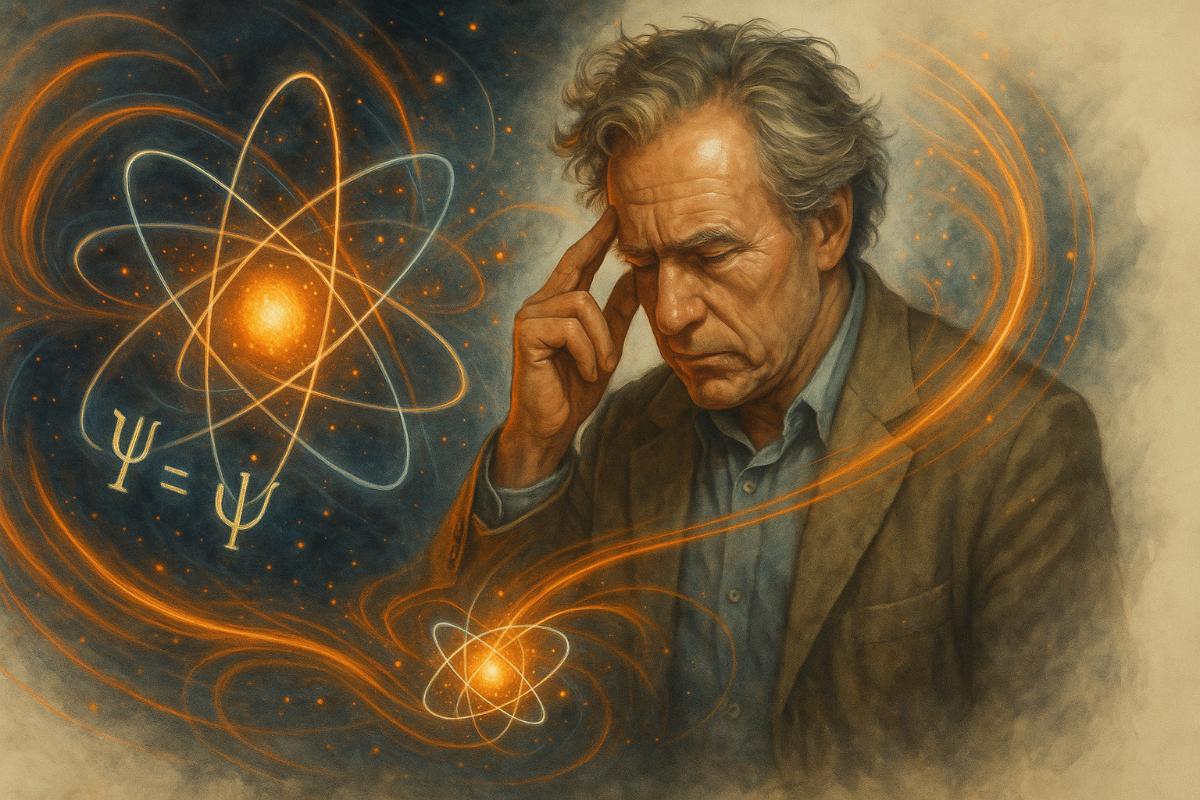На этой неделе специалисты со всего мира съехались на остров Гельголанд, чтобы отметить столетие с момента рождения квантовой механики — одной из самых революционных теорий в истории науки. Именно здесь, в 1925 году, страдая от сезонной аллергии, Вернер Гейзенберг, спрятавшись от цивилизации, сделал фундаментальные вычисления, положившие начало новой физике. За прошедшие сто лет квантовая теория не только выдержала каждую экспериментальную проверку, но и легла в основу множества передовых технологий, от лазеров до квантовых вычислений.
Однако, несмотря на её феноменальную точность и прикладную мощь, мы до сих пор не пришли к согласию в том, что на самом деле стоит за её уравнениями. Какая картина мира следует из квантовой механики? Что она говорит о самой природе реальности? Эти вопросы выводят дискуссию далеко за пределы лабораторий — в область философии, где уже не формулы, а смысл становится предметом споров.
На протяжении десятилетий между физиками и философами сохраняется острое разногласие по поводу так называемой проблемы измерения. Согласно господствующей в учебной литературе позиции, ключевые характеристики квантового объекта — такие как координаты или импульс — не имеют определённых значений до момента взаимодействия с внешней системой, фиксирующей результат. Однако именно это положение вызывает у многих скепсис: если свойства появляются лишь в момент регистрации, можно ли говорить о независимом существовании физической реальности?
Одни учёные считают это проблемой, другие — самой сутью квантового подхода. Разделение настолько глубоко, что даже базовые принципы интерпретируются диаметрально противоположно. Однако некоторые исследователи предполагают, что путь к примирению лежит в пересмотре старых, но всё ещё недооценённых идей.
Суть конфликта — в том, как интерпретировать волновую функцию. Это математический объект, описывающий вероятности разных результатов измерений. В стандартной трактовке, основанной на копенгагенской интерпретации, волновая функция не описывает «то, что есть», а лишь «что может быть». Определённые значения приобретаются только в момент взаимодействия с внешней системой — наблюдателем или прибором. Процесс «схлопывания» волновой функции при этом вовсе не обязательно считается реальным физическим явлением — Гейзенберг и Бор избегали прямых утверждений на этот счёт.
С момента появления, копенгагенский подход порицался и оспаривался. Знаменитое противостояние Нильса Бора и Альберта Эйнштейна длилось десятилетиями. Эйнштейн настаивал на том, что теория без объективной реальности неполна. Позже к критике присоединился Джон Белл, предложивший теоремы, показывающие, что интерпретации, в которых наблюдатель занимает центральное место, несостоятельны по очень многим причинам: понятия «измерение» и «наблюдение» слишком расплывчаты и субъективны, чтобы использовать их в фундаментальных законах природы.
В ответ были предложены альтернативные концепции. Одни, вроде теорий спонтанного коллапса, предполагают, что волновая функция «падает» независимо от чьего-либо вмешательства. Другие — например, многомировая интерпретация Хью Эверетта, предложенная им в 1950-х — отказываются от самого понятия коллапса. Вместо этого, при каждом измерении Вселенная «расщепляется», и наблюдатель оказывается в одной из параллельных ветвей. Всё, что может произойти, действительно происходит — просто в разных мирах.
Эта гипотеза тоже вызывает резкое отторжение у многих, прежде всего из-за того, что требует допустить существование, по сути, бесконечного числа реальностей. Однако среди философов науки всё больше укрепляется убеждение: только убрав наблюдателя из центральной позиции, можно говорить о подлинном понимании того, как устроена Вселенная. Для этого нужно искать интерпретации, в которых речь идёт не о субъективном восприятии, а о независимой структуре мира.
Опять же, физики, занимающиеся фундаментами квантовой теории, часто придерживаются противоположного мнения. Они считают, что именно центральное положение наблюдателя — это и есть главное послание квантовой механики. Не нужно избавляться от наблюдений, говорят они. Нужно понять, что за ними скрывается и как это меняет представление о связях между физикой и внешним миром.
Существует несколько современных направлений, развивающих эту мысль. Одно из них — QBism, или квантовый баесианизм. Его авторы, включая Кристофера Фукса, трактуют волновую функцию как отражение субъективной уверенности конкретного агента в том, как могут развиваться события. Другие, такие как Антон Цайлингер и Часлав Брукнер из Венского университета, ставят в центр внимание на информации как основном элементе физической реальности.
Философы же видят в этих идеях не решение, а откат к инструментализму — позиции, согласно которой теория — не зеркало мира, а лишь средство предсказания. Такой подход не позволяет понять, что на самом деле существует. А если целью физики остаётся познание природы вещей, то инструментализм — тупик.
Казалось бы, на фоне современных научных успехов подход, ставящий разум в центр картины мира, выглядит анахронизмом. Идеализм, согласно которому реальность состоит из идей, был популярен в европейской философии до XX века, от Платона до Канта и Гегеля. Но открытия в биологии, химии и нейронауках лишили эту точку зрения научной опоры. С тех пор господствует физический редукционизм, в котором сознание — побочный эффект биохимических процессов, а не первооснова.
Тем не менее, всё больше физиков, работающих над квантовыми основаниями, возвращаются к взгляду, в котором человек и его восприятие играют конструктивную роль. Одним из самых ярких сторонников такой позиции был Джон Арчибальд Уилер — человек, придумавший термин «чёрная дыра», занимавшийся ядерной физикой, общей теорией относительности и метафизикой. Его идея «участвующей Вселенной» предполагает, что реальность не существует в отрыве от наблюдателя, а формируется благодаря его участию.
В 1978 году Уилер предложил мысленный эксперимент под названием «отложенный выбор», в котором он пересмотрел знаменитую двойную щель. В этом варианте квантовый объект — электрон, фотон или даже молекула — проходит через щели. Если измерить его в момент прохождения, он ведёт себя как частица. Если же зафиксировать положение после прохождения, проявляется интерференционная картина — как будто он прошёл через обе щели одновременно. Причём выбор способа измерения можно сделать уже после того, как частица прошла щели, что ставит под сомнение саму идею о «прошлом» в классическом смысле.
Именно в таких парадоксах, утверждал Уилер, и проявляется главная особенность квантового мира: он не просто существует независимо от нас — он меняется в ответ на наши действия. А чему верите вы?