Мыльные пузыри в 11 измерениях. Учёные решили задачу Плато — и доказали, что даже там пространство можно «сгладить» до совершенства
Исследователи нашли способ укротить дефекты минимальных поверхностей — и продвинули границу геометрии.
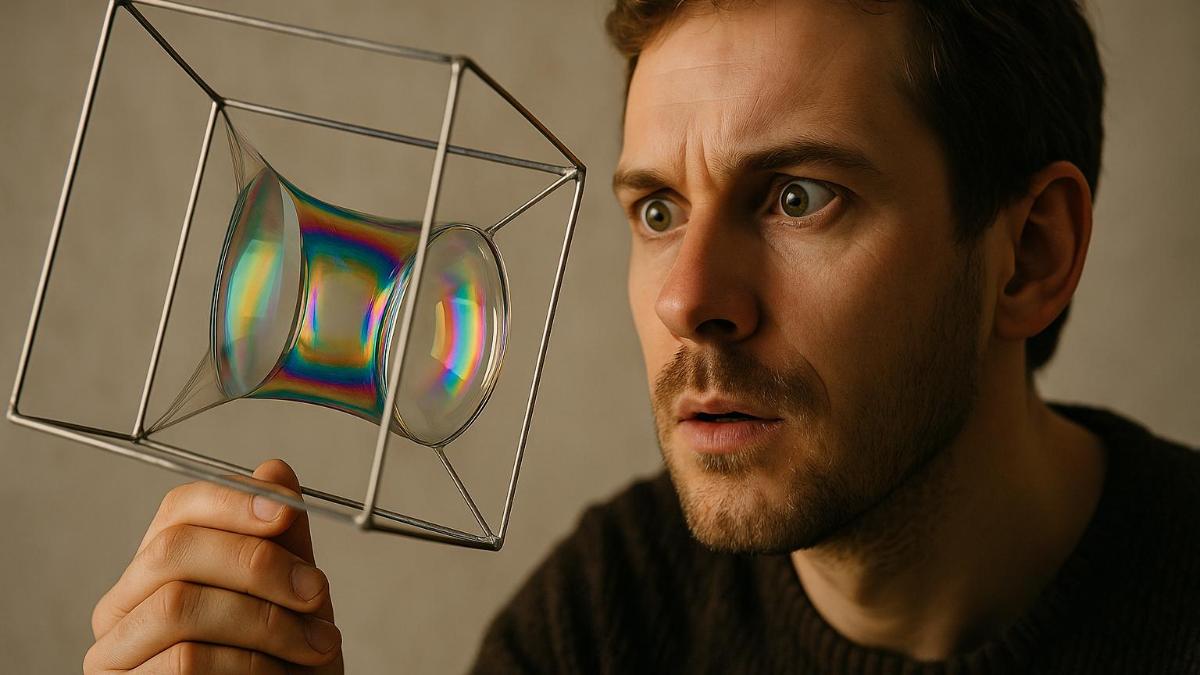
В середине XIX века бельгийский физик Жозеф Плато ставил удивительно наглядные опыты. Он сгибал проволоку в рамки самых разных форм, опускал их в мыльный раствор и наблюдал, какие тонкие плёнки возникают внутри. Кольцо давало ровный диск, две параллельные окружности формировали перетяжку посередине — гладкую фигуру, которую в геометрии называют катеноидом. Более хитрые каркасы порождали седловидные конфигурации, спиральные пандусы и такие пространственные структуры, для которых трудно подобрать краткое описание без картинок.
Плато предположил, что каждая подобная плёнка принимает форму с минимально возможной площадью. Сейчас такие объекты называют минимальными поверхностями. Суть постановки проста: дана замкнутая линия в трёхмерном пространстве; нужно выяснить, существует ли для неё двумерная перемычка с тем же краем, которая среди всех геометрических вариантов имеет наименьшую площадь.
Строгий ответ удалось получить лишь в XX веке. В начале 1930-х годов Джесси Дуглас и Тибор Радо независимо доказали, что для любой замкнутой кривой такая поверхность действительно существует. То есть для каждой проволочной рамки можно описать математический аналог мыльной плёнки, реализующей минимум площади. Этот результат получил название задачи Плато, а работа Дугласа принесла ему первую в истории медаль Филдса — высшую награду для математиков.
Интерес к минимальным поверхностям быстро вышел за рамки красивой визуальной задачи. Такие структуры возникают в дифференциальной геометрии и топологии, биофизике, общей теории относительности, при моделировании мембран и сложных молекул. Привлекательно, что один и тот же класс объектов полезен как в рассуждениях о строении пространства, так и при описании вполне физических систем — от клеточных оболочек до горизонтов чёрных дыр.
Со временем внимание переключилось на многомерные варианты задачи. Математики научились формулировать аналог мыльной плёнки для пространств большей размерности. Оказалось, что до семи измерений минимальные поверхности ведут себя столь же аккуратно, как и в привычном мире: их можно описывать гладкими уравнениями, у них не возникает разрывов, острых углов и самопересечений. Начиная с восьмой размерности ситуация резко меняется. Там возможны участки с нарушением гладкости — точки или более сложные дефектные зоны. Их называют сингулярностями, и именно они ломают привычный аналитический аппарат.
Возникает естественный вопрос: насколько часто в высоких размерностях появляются такие дефекты и можно ли от них избавиться? Если для характерного контура сингулярности не возникают или исчезают при небольшом изменении границы, исследователь может немного подправить условия и получить гладкую поверхность. Тогда доступны стандартные методы анализа и открывается путь к подробному описанию геометрии в данной размерности.
Первые строгие результаты касались двумерных поверхностей в трёхмерном пространстве. В 1962 году Вендэлл Флеминг доказал, что в такой ситуации минимальная поверхность всегда оказывается гладкой, то есть никакие сингулярности не появляются. Позднее выяснилось, что такая же картина сохраняется и в четырёх, пяти, шести и семи измерениях: там также нельзя построить минимальный объект с дефектами.
Перелом наступил в конце 1960-х годов. Джим Саймонс описал конкретную семимерную поверхность, расположенную в восьмимерной среде, у которой имеется сингулярная точка. Уже через год было доказано, что эта конструкция действительно реализует минимум площади. Стало ясно: в восьми измерениях минимальные объекты могут иметь локальные дефекты. Вопрос сместился к частоте таких примеров и условиям их возникновения.
Следующий значимый шаг сделали Роберт Хардт и Леон Саймон в 1985 году. Им удалось показать, что в восьмимерном случае сингулярности исчезают при небольшой деформации границы у подавляющего большинства контуров. Такое свойство называют генерической регулярностью: для обычного выбора рамки результат оказывается гладким. Примеры вроде конструкции Саймонса редки и чувствительны к условиям; достаточно минимально изменить контур, чтобы дефект пропал. Однако методы Хардта и Саймона плохо переносились на более высокие размерности, и прогресс надолго остановился.
Ключевым элементом будущего продвижения стала идея Герберта Федерера начала 1970-х годов. Он доказал, что множество сингулярностей у минимальной поверхности в n-мерном пространстве может иметь размерность не выше n − 8. Для восьми измерений это означает, что допускаются только отдельные точки; линии, поверхности или более сложные структуры невозможны. Это жёсткое ограничение задаёт рамки возможного поведения любых аномалий.
Именно к этой идее вернулась команда Отиса Чодоша из Стэнфорда, Христоса Мантулидиса из Райс-университета и Феликса Шульце из Уорика. Сначала они решили заново разобрать восьмимерный случай, но другим методом, который впоследствии мог помочь в более высоких размерностях. Они предположили, что существует минимальная поверхность с точечной сингулярностью, которую невозможно устранить сколь угодно малой деформацией границы. Каждый раз, слегка изменяя контур, исследователи получали новую поверхность с дефектом. Такой набор решений можно представить как многослойную структуру, где сингулярности образуют линию в восьмимерном пространстве.
Далее вступает в силу ограничение Федерера: линия сингулярных точек в восьми измерениях невозможна. Чодош и соавторы аккуратно распространили рассуждение Федерера на полученную ими совокупность решений и показали, что предполагаемая картина противоречит общим ограничениям. Если возникает логическая несостыковка, исходное предположение неверно. Следовательно, при достаточно тонкой коррекции границы точечная сингулярность всё же исчезает, и генерическая регулярность в восьмой размерности действительно имеет место.
Убедившись в работоспособности метода, команда перешла к девятимерному случаю. Стратегия снова начиналась с предположения о неустранимом дефекте. Рассматривалась бесконечная семья решений, получаемых при разных изменениях границы, и в каждой конфигурации сохранялась сингулярная точка. Для анализа взаимного расположения таких аномалий была введена функция разделения, измеряющая расстояние между дефектами в разных слоях. Если дефект действительно неустраним, эта величина остаётся малой. Авторы показали, что в ряде ситуаций она может значительно увеличиваться, что означает исчезновение дефекта при подходящей деформации. Это дало генерическую регулярность в девятой размерности.
Аналогичный подход с доработанными оценками позволил рассмотреть десятимерный случай. Исследователи показали, что функция разделения в этой ситуации также ведёт себя контролируемо, а попытка предположить неустранимость дефектов снова приводит к противоречию. В результате стало ясно, что в девятой и десятой размерностях типичный контур задаёт гладкую минимальную поверхность. Таким образом, область, где геометрия минимальных объектов хорошо изучена, существенно расширилась.
При переходе к одиннадцати измерениям появилась новая трудность. В таких пространствах возможен специфический трёхмерный тип сингулярности, плохо вписывающийся в прежнюю схему. Предыдущая версия функции разделения не позволяла корректно учитывать этот сложный вариант, и без дополнительной доработки добиться продвижения было трудно.
На этом этапе к проекту присоединился Чжихань Ван из Корнеллского университета, долго изучавший такие трёхмерные структуры. Совместно исследователи уточнили определение функции разделения так, чтобы она учитывала поведение трудного дефекта. После этого удалось повторить общую схему: предположить неустраняемость сингулярности, получить бесконечную семью решений, проследить ключевые изменения и прийти к невозможной картине. В итоге команда доказала генерическую регулярность и для одиннадцатой размерности.
Новый результат сразу открыл возможность пересмотра целого спектра других утверждений. Во многих теоремах геометрии и топологии фигурируют структуры с заданными характеристиками кривизны, роль которых часто играют минимальные гиперповерхности.
Существенную роль новые методы могут сыграть и в общей теории относительности. Там важное место занимает теорема о положительной массе, которая в упрощённом виде утверждает, что суммарная энергия Вселенной не может быть отрицательной. В 1970-х годах Ричард Шён и Шинг-Тунг Яу доказали её для семи и меньших размерностей, опираясь именно на минимальные гиперповерхности. В 2017 году им удалось распространить утверждение на любые размерности другим, более техничным методом. Недавний прогресс в задаче Плато даёт альтернативный, более геометрически наглядный путь к подтверждению теоремы о положительной массе в девятой, десятой и одиннадцатой размерностях. Разные доказательства подчеркивают разные стороны одного и того же явления и нередко открывают дополнительные связи с другими задачами.
Влияние этих идей заметно и за пределами чистой геометрии. Варианты задачи Плато уже применялись, например, при изучении плавления льда, где важно отслеживать изменение границы между фазами. Когда поверхность развивается во времени, могут возникать сложные переходные структуры, и именно такие режимы обычно оказываются богатыми на неожиданные эффекты. Исследователи надеются, что новые методы работы с сингулярностями помогут лучше понять тонкую динамику подобных процессов.
Дальнейшее продвижение в задаче Плато может развиваться по двум направлениям. Либо удастся шаг за шагом подниматься к более высоким размерностям и доказывать генерическую регулярность дальше, либо на каком-то уровне выше одиннадцатого измерения обнаружится принципиальный барьер. В таком случае появятся минимальные поверхности, у которых дефекты нельзя устранить никакими деформациями границы. Подобная ситуация сама по себе станет новой загадкой. В любом варианте исследователей ждёт масштабный фронт работы: либо зона предсказуемого поведения минимальных объектов расширится, либо придётся детально разбираться, почему в многомерных пространствах возникают по-настоящему устойчивые аномалии.

