Китайские учёные выпили 10 мартини. Только так удалось доказать то, во что никто не верил 50 лет
Фрактал, нарисованный фломастером, оказался реальностью.
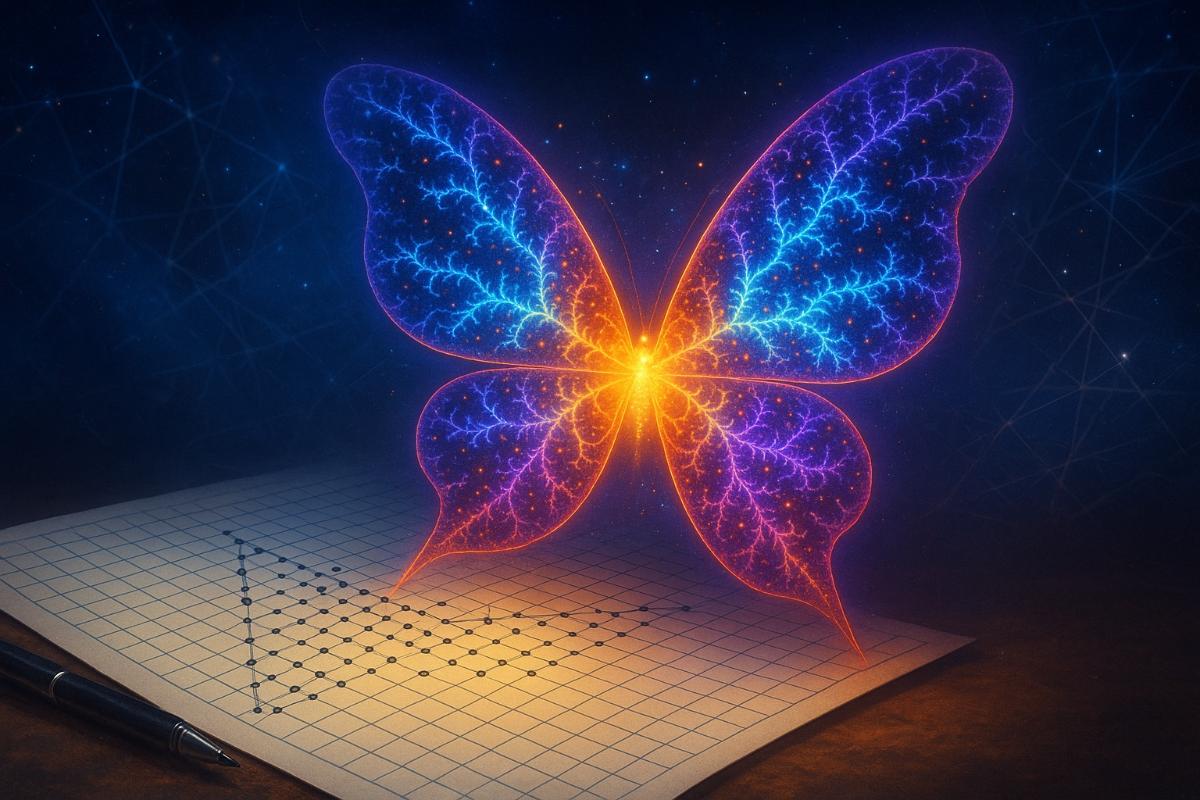
В 1974 году, за пять лет до выхода его Пулитцеровской книги «Гёдель, Эшер, Бах: вечная золотая коса», молодой аспирант физического факультета Орегонского университета Дуглас Хофштадтер оказался в Германии. Его научный руководитель уехал на стажировку в Регенсбург, и Хофштадтер, желая подтянуть немецкий, последовал за ним. Там он присоединился к группе теоретиков, обсуждавших задачу квантовой механики: вычисление уровней энергии электрона в кристаллической решётке, помещённой в магнитное поле.
Большинство участников пытались строго доказывать теоремы, но сам Хофштадтер признавался, что не мог угнаться за их рассуждениями. Это и оказалось его преимуществом: вместо чистой абстракции он решил взять в руки калькулятор Hewlett-Packard 9820A весом почти 18 килограммов и напрямую просчитать уравнение Шрёдингера. Именно это уравнение описывает поведение электрона в конкретной среде, а ключевой переменной в рассматриваемом случае выступал параметр альфа — произведение магнитного поля на площадь элементарной ячейки решётки.
Для рациональных значений альфа (целых или дробных) задача была сложной, но решаемой. А вот для иррациональных величин коллеги понятия не имели, как к ней подступиться. Хофштадтер пошёл от обратного: он стал подставлять разные рациональные альфа, запускал калькулятор на ночь и утром получал длинные бумажные ленты с результатами — списками разрешённых и запрещённых энергетических уровней. Затем он вручную переносил данные на миллиметровку и соединял точки фломастером.
Постепенно на графике проступил узор — сложная фрактальная структура, чьи «крылья» напоминали силуэт бабочки. Так появилось то, что теперь называют «бабочкой Хофштадтера». Коллеги же подшучивали: называли его машину «Румпельштицхеном» и упрекали в увлечении нумерологией. Сам научный руководитель пригрозил лишить его финансирования, намекая, что он ищет несуществующие закономерности. Но Хофштадтер был уверен: он «поймал кота за хвост». Ведь структура явно напоминала знаменитое множество Кантора — фрактал, который возникает при бесконечном удалении средних третей отрезка и оставляет пыль из несвязанных точек.
Его наблюдение заключалось в том, что чем сложнее дробь, тем больше промежутков между возможными уровнями энергии. По мере приближения рациональных альфа к иррациональным значениям график становился всё более похож на канторовское множество. Хофштадтер предположил: при иррациональной альфа спектр энергии действительно превращается в Cantor set.
Спустя несколько лет к тому же выводу пришли другим путём математики Марк Как и Барри Саймон, занимавшиеся почти-периодическими функциями. В отличие от строго периодических, они почти повторяются, но никогда полностью. В 1981 году учёные осознали: именно такое поведение и проявляет уравнение Шрёдингера при иррациональной альфа. Значит, Хофштадтер оказался прав: энергетический спектр превращается в множество Кантора. Но доказательства не было. Как в шутку пообещал десять мартини любому, кто сумеет это доказать — так родилась «гипотеза десяти мартини».
В 1982 году Саймон опубликовал частичный результат и получил от Ка́ка «три мартини». Но полное решение оставалось недосягаемым. После смерти Ка́ка в 1984-м задача продолжала жить как вызов. Лишь в начале 2000-х на горизонте появился прорыв.
В 2003 году математик Светлана Житомирская, посвятившая годы почти-периодическим функциям, уже собиралась оставить попытки, когда к ней пришёл 24-летний Артур Авила. Он предложил объединить усилия. Годом ранее каталонец Хоаким Пуиг доказал гипотезу для большинства иррациональных альфа, опираясь на идеи Житомирской, но оставались исключения. В 2005 году Авила и Житомирская довели дело до конца. Их доказательство было принято в Annals of Mathematics, а Авила впоследствии получил Филдсовскую медаль. На конференции в честь результата коллеги символически отпраздновали его бокалами мартини.
Однако победа имела изъяны. Доказательство было «лоскутным», собранным из разных подходов, и относилось лишь к упрощённой модели. Более реалистичные кристаллы и непостоянные магнитные поля оставались вне его досягаемости. Хофштадтер даже писал, что если кто-то когда-нибудь увидит «его бабочку» в эксперименте, то он будет «самым удивлённым человеком на Земле».
И тем не менее в 2013 году группа физиков Колумбийского университета действительно зафиксировала «бабочку» в реальности: два слоя графена в магнитном поле продемонстрировали тот самый фрактальный спектр. То, что казалось игрой воображения, стало наблюдаемым явлением. «Это стало тревожным и вместе с тем прекрасным открытием», признавалась Житомирская.
Дальнейший шаг был сделан в 2019 году, когда в группу Житомирской пришёл молодой исследователь Линжуй Гэ. Он вдохновился «глобальной теорией» Авилы, пытавшейся выявлять общие структуры в почти-периодических функциях. Гэ предложил новую интерпретацию геометрических объектов, связанных с этими функциями, и применил её к «двойственному» уравнению Шрёдингера. В сотрудничестве с Житомирской, а также Цзянгуном Ю и Ци Чжоу из университета Нанкай им удалось построить единое доказательство, которое охватывает целые классы задач. Так гипотеза десяти мартини была окончательно решена без «заплат», а бабочка Хофштадтера окончательно закрепилась как реальное физическое явление.
Более того, их подход уже позволил решить ещё несколько ключевых задач в этой области. По словам Гэ, «глобальная теория» оказалась своеобразным маяком, который показывает направление для новых открытий. История графика, нарисованного фломастером на миллиметровке, превратилась в доказательство того, что абстрактные фракталы и множества из теории чисел способны описывать поведение электронов в кристалле и находить отражение в лаборатории.
Так бабочка Хофштадтера, родившаяся из настойчивости одного аспиранта и бумажной ленты калькулятора, стала символом того, как математика, физика и случайная интуиция переплетаются в единую историю.

